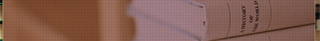САЛИМ БАБУЛЛАОГЛУ
Июль (Перевод Ниджата МАМЕДОВА)
Июль
Да, стихи обычно пишут
На бумаге белоснежной.
Незатейливые строки
Из кафешки той же, прежней
На газете я пишу.
Этот город в пять мильонов:
То есть стало много нас.
И чем больше нас, тем больше
Одиночества подчас
И тем боле по ночам,
И когда уходят в сон,
В первобытные виденья
Жители земли подлунной,
Понимаешь в откровенье,
Храп и слово их пусты.
Как бирюк тогда захочешь
Ты завыть, сходя с ума,
Но бумагу очень жаль.
Ведь она нема, нема.
Заглушив свой голос в сердце –
В том далеком, чуждом крае,
Ругань в слово превращаешь.
Многие сдались без боя,
Ты прекрасно это знаешь,
Да, сдались в борьбе с собой.
Где найти теперь иконы?
Где найти теперь Коран?
Ведь в эфире только кола,
Шарлатан или смутьян.
Ну, о‘кэй, то есть мерси.
Одопевцы все на дачах,
Насими в крови от ран.
И вокруг, везде, повсюду
В моде только шум и гам,
Рэп дешевый, мейхана.
За гроши Христа продал
Ученик его Иуда.
В мире кризис и в стране,
Ждем финансового чуда –
Нужен ли тут комментарий?
С настроеньицем моим
Вот как дело обстоит.
Слава Богу, все здоровы.
Остальное лишь петит,
Город… людно… толчея…
Так что, друг мой, не пиши
О стране в ответ, и мире.
Может, в этом случае
Полюблю я снова лиру:
Друг для друга – зеркало.
И не надо заводить
О высоком разном речи.
Напиши, в порядке дети?
Как с болезнью, астму лечишь?
Продолжаешь пить лекарства?
Напиши о пустяках,
Поливаешь ли ты розы.
Не пиши ни в коем разе,
Как судьба нам шлет морозы,
Это всем давно известно.
Напиши, что стал косматым,
Бородой лицо покрыто.
Если денег нет совсем,
Денег в долг займи у сытых,
И постричься можно в долг.
Не пиши, что протекает
По ночам на кухне кран;
И что страхи досаждают
И душа болит от ран –
Кран плотней закрой, и всё.
Нет, не каждый, кто поёт,
Есть поэт – посланник рая.
И тот хлеб, что мы едим,
Не одну муку вбирает,
Есть огонь, и труд, Творец.
Не считай, что одинок,
Никому ты не в охотку.
Ведь под каждым знанием
Грех таится – пусть щепотка;
Как греха нам избежать?
Всё равно дубинки знают
Свое дело – то есть тело.
Если сердце еще бьется,
То оно – часы всецело –
Если б только не страданья.
Напиши, что распашонки
На веревках небольших,
Что прищепки черные
Укусили будто их,
И тогда ты взвыл от боли.
Не пиши мне о коллегах,
Тех, кто сеет в сердце грусть…
Пусть им тоже повезет,
Правдой обернутся пусть
Даже лживые известья.
О правах людей, режиме
Ты не спрашивай меня.
Напиши, как сам Мушфиг,
Каково страдать любя,
Каково любя страдать.
Напиши: жена молчит,
Значит, любит, как и прежде.
Уравненье из двоих
В вас вселяет только нежность,
Напиши, что тоже любишь.
Не пиши: мы кровь пролили,
Вот что требует свобода.
Напиши на небе месяц,
А внизу морские воды.
Не пиши, что нет следов глубоких.
Расскажи, на карте видишь
Ты страну свою, как прежде.
Это дарит, как всегда,
Только гордость и надежду.
Может ли быть что-то лучше…
Не пиши, через забор
Видишь ты лачуги лишь,
Видишь ты одни хибары,
Чьи печальны жители.
Напиши, что счастливы.
Не пиши, что Мармара
Утопает вся в крови.
Ведь луна, песок, пейзаж
В человеческой любви
Так нуждаются порой.
Напиши, подсолнуха
Сердцевина расцвела.
И на грядке тыквочка
Словно шар земной кругла,
И она в согласье с миром.
Напиши, друзья бодры,
Их прекрасен стройный стан.
Твёрдо на ногах стоят,
Каждый из них, как титан,
Страх не ведом им ничуть.
Не пиши, что очень жарко,
Что хазри нам колет глаз –
Вспомни, лето на дворе,
Ты глаза закрой тотчас
и подумай: пусть он дует.
Напиши, что тесть твой пьет
Чай душистый с мятою,
У него арбузы в грядке,
И они все полосатые,
Полосы сошлись на полюсе.
Пусть медведки изгрызают
Сердцевину всех плодов.
Лето, лето – значит, праздник
Пчел мохнатых и жуков,
Вот стрекочут и поют.
Не пиши, забот так много,
Не пиши, что бренен мир.
Паузы расставь во фразе,
Всё изменит сей пунктир:
Бренен… мир… забот… так много…!
Напиши, что сына плавать
Научил ты с малолетства.
Напиши, что дочь твою
Научила мать кокетству
За шитьем своей рубашки.
Напиши, что твоя мать
На ногах, здорова, значит.
Напиши, отец твой строгий
Больше от тебя не прячет
Сердце чуткое свое.
Напиши, покамест двери
Открываются, как раньше.
А за ними малыши,
В смехе их совсем нет фальши,
Бабушки спят в комнатах.
Напиши, что человек
Не совсем уж одинок,
Если вспомнить есть кого,
Помнит всех наш мудрый Бог:
Всех – тебя, меня и их.
Напиши, что самовар
Так горяч, а дым – трубой.
В этот вечерок прохладный
Стол накрыт тут за стеной,
Ждет соседей чаепитье.
Напиши, июль прошел,
Весь насыщенный сполна.
От лугов, полей исходит
Ароматная волна,
Даже издали почуешь.
На бумаге белой пишут,
Пишут что-то… ну, и ладно…
Я в кафешке той же, прежней
Перед зеркалом всем в пятнах
Написал тебе, мой друг.
Перевод Ниджата МАМЕДОВА
НИДЖАТ МАМЕДОВ
«ИЮЛЬ» САЛИМА БАБУЛЛАОГЛУ
Стихотворение «Июль» занимает привилегированное центральное, 7-е место в сборнике Салима Бабуллаоглу «Фраза с выпавшей первой буквой», состоящем из 13 фрагментов. В этом смысле оно симметрично. Следует сделать еще несколько важных комментариев: прежде всего, эта книга – «поэтический календарь», кроме 12 стихотворений, чьи названия соответствуют 12 месяцам григорианского календаря, в ней есть еще одно стихотворение под названием «Рамазан» – это особый месяц лунного календаря, «султан остальных 11 месяцев». Подзаголовок стихотворения «Рамазан»
звучит следующим образом: «Стихи главного месяца». Учитывая, что каждый месяц лунного календаря смещается ежегодно на 10 дней в соответствии с нашим григорианским календарем, то всё вышесказанное можно расценивать в качестве первого и, вероятно, важнейшего комментария по поводу оригинальной структуры этой поэтической книги, об одном стихотворении которой мы станем говорить дальше.
Сюжет стихотворения при первом прочтении прост: поэт, сидя в кафе, пишет послание другу, рассказывает немного о себе, немного о современном быте, расспрашивает друга о его делах, заботах, здоровье, дает кое-какие наставления. Однако финальные строки этого длинного стихотворения (190 строк) неожиданным образом обнаруживают тот факт, что поэт писал самому себе, сидя перед зеркалом:
Mənsə həmin kafedə,
Qarşıda kirli güzgü,
Sənə yazırdım, dostum.
Таким образом, перед нами оказывается глубоко рефлексивный текст (от позднелат. reflexio – «обращение назад»), где под рефлексией следует подразумевать не только обращение сознания на самого себя, но также то, что данное стихотворение подталкивает читателя перечитать его во второй раз, держа в уме финальный пуант.
Хорошее стихотворение (одним из образцов которого является «Июль») всегда образовано как система повторов, сигнализирующих о том, что сообщаемая информация важна. На структурном уровне повторение ритмической доли создает размер, фонем – аллитерацию, созвучий в конце строки – рифму, схемы рифмовки – строфу, «чужого слова» – интертекстуальность. Несколько всё упрощая, можно сказать, чтохорошим текстом является тот, который хочется перечитывать повторно. «Июль» написан семисложником, самым песенным, фольклорным, «детским» размером азербайджанской поэзии. «Печаль, сдерживаемая размером, может сойти за рабочее определение смирения, если не всего искусства поэзии». Эти слова Бродского об Одене можно отнести и к поэзии Салима Бабуллаоглу, в частности, к «Июлю».
Следует сделать еще несколько замечаний в связи со структурой, архитектоникой «Июля». Как уже было сказано, это длинное стихотворение написано традиционным семисложником; но дело в том, что Бабуллаоглу в то же время нарушил традицию, добавил пятую строку к семисложной четырехстрочной строфе, которая обычно пишется с перекрестными и параллельными рифмами. Нет, у этого подхода
нет связи с «пятеркой», что встречается в азербайджанской поэзии, истории литературы. Между этой последней, пятой строкой и остальными четырьмя (традиционной строфой) расположен однострочный пробел, интервал. Именно эта «одиночная» пятая строка зачастую (почти всегда) либо выражает суть предыдущих четырех строк, либо, если не выражает, то предельно усиливает вопросительную или вос-
клицательную интонацию предыдущей строки; либо же, привнося легкую иронию вперемешку с печалью, придает целостность строфе. Интересно то, что «Июль» может быть прочитан и без этих одиночных строк, но с ними настроение и чувственность стиха предстают совершенно иными. Будто и сам автор находится в той одиночной строке, одиночество, сквозящее во всем строении стихотворения, визуально
выражено в этой отдельной строке. Будто весь мир выражен цельными четырьмя cтроками, а одинокий человек, автор, одной строкой отделяет себя от мира на расстоянии одного интервала.
Уместно добавить следующее: Салим Бабуллаоглу в своих прежних поэтических опытах прибегал к силлабике и верлибрам, в которых строки состояли порой из 21, 25, 27 и более слогов (как это уже было в его «IX части», написанной в четырех вариантах), что для азербайджанской поэзии является беспрецедентным явлением. В той же «IX части» Бабуллаоглу экспериментировал с традиционными семисложными формами, конкретно говоря, с баяты – самым популярным семисложником,
оставляя для читателя небольшую форточку после довольно «утомительного» чтения длинных строк:
Dağlarda duman var,
Bir özgə güman var.
Yun kimi didilər,
Hələki aman var.
Это похоже на баяты, но строки состоят не из семи, а из шести слогов. Вышесказанное можно подытожить следующим образом: поэтическое кредо Бабуллаоглу взращено не отрицанием клишированных размеров и схем национального стиха, но добавлением к ним, что можно увидеть и в «Июле». Вторично мы читаем «Июль», уже зная то, что это не послание, а автопослание, письмо самому себе. Если «Полковнику никто не пишет» (так называется не только повесть Маркеса, но также один из сборников Салима Бабуллаоглу и одно из стихотворений в данном сборнике), он решается написать самому себе. Письмо самому себе в будущее – один из психотерапевтических методов. Однако для поэта будущее – это всегда, ведь «стихи – это новость, которая никогда не устаревает» (кажется, Паунд). Эту цитату по поводу новостей можно оправдать первой же строфой «Июля»:
Bu adi sətirləri
Sənə həmin kafedən
Qəzet üstdə yazıram.
Эти строки, в свою очередь, намекают на то, что перед нами палимпсест – в древности так обозначалась рукопись, написанная на пергаменте, уже бывшем в подобном употреблении. А в эпоху постмодерна палимпсест постепенно сделался синонимом культуры вообще. Первая и последняя строфы «Июля» образуют смысловую рифму: набранная газета, бывшая ранее чистой бумагой, перекликается с «kirli
güzgü». Жанр автопослания родственен жанру автоэпитафии. «Часто автоэпитафия формулируется как обращение к путнику, к прохожему – старинный прием, использовавшийся еще в античные времена, когда надгробие украшали именно такие обращения к идущему мимо» (https://kulturologia.ru/blogs/081023/57673/). Так и «Июль» – кроме послания к самому себе, обращение к случайному читателю, который раскрыл книгу прямо посередине. Рефлексивность, обращение назад, зеркальность пронизывают всё строение «Июля». Так, уже во второй строфе читаем:
Beş milyonluq bir şəhər:
Yəni çoxalmışıq biz.
Sayımızla sərasər
Artıbdı təkliyimiz
«Зеркала и совокупление отвратительны, ибо умножают количество людей», –пишет Борхес.
Далее читаем:
Efirdə nə ikona,
Nə Quran yazısı var.
Reklam olunur kola,
Mavilər, narıncılar,
O’key, mersi mikonəm.
С момента появления телевизора он стал еще одной зримой метафорой зеркала. Слово на фарси «mikonəm», упоминание Корана и колы заставляет меня вспомнить распространенный лет десять-пятнадцать назад мем: тогда в Иране появилась конспирологическая теория о том, что надпись «Coca Cola», прочитанная наоборот, то есть зеркально, образует арабские буквы, якобы складывающиеся в слова «Нет Мухаммеда, нет Мекки».
Через строфу читаем:
Otuz gümüşə satdı,
Eh, Məsihi İuda.
Эти строки напоминают мне в свете зеркальности «Июля» «Евангелие от Варнавы». Согласно этому апокрифу, Иисус не был распят, вместо него был казнён Иуда Искариот, принявший в момент ареста облик Иисуса, самого же Иисуса четыре ангела извлекли из дома через окно и вознесли живым на третье небо (глава 215). Через две строфы читаем:
Dost dostun güzgüsüdür.
Личность поэта, являющегося глубоко верующим человеком, побуждает трактовать эти строки в суфийском ключе: Бог и верующий в Него – друзья, взаимно отражающие друг друга. Вдобавок вспоминается дружба Руми и Шамса. Эта аллюзия подтверждается словами «aşiq» и «məşuq», которые встречаются несколькими строфами далее. Вызывающим особый интерес является следующая строфа:
Yazma, qonşu otaqda
Həmkarların... hər nəysə...
Təki onlar yarısın:
Hətta yanlış xəbərlər
Ünvanına düz çatsın.
С семиотической точки зрения, любая информация имеет отправителя и получателя, переходя через канал связи и подвергаясь тем самым шуму, искажению. Слово отправленное и слово полученное принципиально не равны. Однако метафора кривого зеркала, наставленного на лживую, ошибочную информацию, парадоксальным образом обращает эту ложь в правду. В следующей строфе поэт пишет:
Yaz ki, qadının susur,
Deməli sevir hələ.
İkiməchullu düstur
Pozulmayıb məhlədə,
Yaz ki, sən də sevirsən.
Уравнение, состоящее из мужской и женской фигур: x = y. И снова перед нами зеркальность, образованная знаком равенства. С другой стороны, нам немало встречались и надписи на стенах, где после приплюсованных заглавных букв имен юных влюбленных следует знак равенства, а после этого знака изображение сердечка… Зеркальным отображением любви между Богом и человеком становится земная
любовь, в данном случае любовь между супругами. Через строфу читаем:
Söylə, yenə xəritədə
Öz ölkəni görürsən.
Географическая карта – еще одно зеркало, отражающее в уменьшенном масштабе любимую поэтом родину. Многоликость символики зеркала проявляется в «Июле» во всей своей полноте. Этот символ можно трактовать не только в положительном, но и отрицательном ключе. Именно множественность, а зачастую противоречивость трактовок отличает хорошее стихотворение от плохого, обладающего однозначной трактовкой, что, в свою очередь, выводит стихотворение из области поэзии и сближает его с газетой-однодневкой.
Порой зеркало выступает в «Июле» в качестве дурной бесконечности – неопределённой бесконечности, не включающей в себя понятие своего предела. Однако Бабуллаоглу – поэт верующий, и потому он верит в Начало и Конец. Одним из прижизненных средств избегания этой дурной бесконечности является отказ:
Eləcə gözünü yum.
Или:
Suyu bağla və yetər.
К финалу зеркальность обретает новые обертоны. Три поколения одной семьи отражают друг друга: отец и мать поэта, он сам и его супруга, а также его сын и дочь. Зеркало может оборачиваться незапертыми дверями, за которыми мы обнаруживаем безгрешность:
Yaz ki, hələ qapılar
Açılır və örtülür.
Qapıların dalında
Totuq körpələr gülür,
Yatır yumaq qarılar.
Для всего этого стихотворения характерно тихое благородство, риторически выраженное в косвенной речи: поэт повествует о себе, не прибегая к «я», сохраняя трезвую дистанцию; говорит о неприглядных вещах, начиная фразу со слова «yazmaki». В «Июле» всего пара-тройка вопросительных фраз, важнейшей из которых является:
Bəlkə, qaçaq günahdan?
Этот вопрос подкреплен встречающейся чуть выше фразой «qara dəftər», где она употреблена в сниженном, бытовом контексте как тетрадь, куда записываются долги за купленные в рассрочку продукты. Но в том и состоит величие поэта, что он намекает посредством сниженных деталей и высказываний на более высокие идеи и обстоятельства. И тогда «qara dəftər» прочитывается как аллюзия на список грехов,
которые заносит в тетрадь ангел на левом плече. Итак, главный вопрос поставлен. Но и ответ на него дан. Дружба, любовь к Богу, любовь к близким, к родине, к Слову отшлифовывают сердце поэта до идеала,
подобного божественному зеркалу, отражающему мир без единого искажения. А последним выражением этого является то, что стихотворение «Июль», о котором мы подробно поговорили, состоит из 38 строф (строфа в данном случае 4+1 строка), и написано поэтом в 38-летнем возрасте, что можно расценивать как последнее зеркало, отражение жизни в тексте и Текста в жизни.